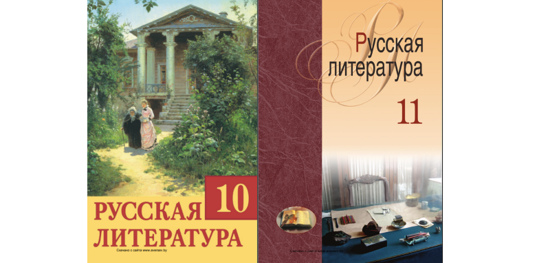
05.11.2018 Публицистика
Новая программа по русской литературе для учащихся IX-XI классов средних учебных заведений начнёт внедряться с 2019-20 учебного года. Об этом сообщили на совещании, состоявшемся 2 ноября в Институте образования. Присутствовали представители Министерства образования, Института образования, методисты и учителя из средних школ.
По структуре и основному содержанию программа сохраняет преемственность с действующей, никаких революционных изменений не ожидается. Разработчики учли замечания о переусложнённости программы. Список произведений, подлежащих углубленному изучению, несколько сокращён.
Вместе с тем, перспективная программа наследует недостатки предшествующей. В отличие от абсолютного большинства европейских государств, где изучается отечественная и иностранная литература, в Республике Беларусь фактически есть «белорусскоязычная литература» и «русскоязычная литература». К белорусской (на самом деле – белорусскоязычной) отнесены произведения национальных авторов, впервые опубликованные на белорусском языке, и переводы на белорусский иностранных и отечественных писателей. То есть критерием причисления литературного пласта к белорусской литературе является не национально-культурная принадлежность автора, не место его рождения и проживания, а исключительно язык произведения, пусть даже переводной. Аналогично, к русской (де-факто – русскоязычной) литературе относятся российские произведения и переведённые на русский язык. То есть сохранена тенденция, когда литературная составляющая произведений отодвинута на второй план, предмет литературы играет вспомогательно-придаточную роль по отношению к языку.
Произведения многих белорусских писателей (в т.ч. Я.Брыль, А.Адамович, В.Колесник, В.Быков) отнесены к «русской литературе». Других (Н.Чергинец, С.Алексиевич, А.Аврутин и др.) – к «литературе белорусских писателей на русском языке». Учителя русскоязычной литературы и методисты охотно признают, что белорусская литература позднего советского периода и современности – преимущественно русскоязычная. Сейчас, например, в Беларуси только около 17% общего тиража книг печатается по-белорусски, включая переводы иностранцев и переиздания классиков; суммарный тираж книг современных белорусских авторов, публикующихся в России по-русски, заметно превышает аналогичную цифру для белорусских издательств. Никто не отрицает необходимости сохранения белорусской мовы, упрочнения её позиций, но ситуация, когда школьники едва осведомлены о мейнстриме отечественной литературы, мне представляется абсурдной, абсолютно исключительной для Восточной Европы.
Если выбросить упомянутых авторов (Я.Брыль, А.Адамович, В.Колесник, В.Быков, Н.Чергинец, С.Алексиевич, А.Аврутин) из русскоязычной программы, то далеко не все из них упомянуты в белорусскоязычной. Поэтому в Министерстве образования изъяли блок современной европейской и американской классики, это случилось ещё в прежней программе, он стоял в самом конце XI класса, и заменили обзором русскоязычной белорусской литературы. Хоть так. Потому что сохраняет позиции лобби, готовое костьми лечь, лишь бы не пустить русскоязычную отечественную литературу в белорусскую.
Кроме глобальных проблем – неразберихи относительно деления на отечественную и иностранную литературу, а также подчинённого положения литературы при языке, сохранится и диспропорция в количестве часов, отведённых на утратившие актуальность произведения с ущербом для современную литературы. У меня, например, вызывает возмущение растрата 3-х учебных часов на «Слово о полку Игореве». Лизоблюдческим одам М.Ломоносова в адрес правящих кругов Российской Империи также уделены часы, хотя его крылатая фраза «Науки юношей питают» в наши дни, в 21-м веке, звучит глупо и сексистски: девушек, выходит, наука питать не может. Разумеется, произведение написано в другую эпоху, теперь, естественно, актуальность утратило. Иными словами, школьники зубрят не литературу, а историю литературы.
Подмена русскоязычной литературой предмета истории хорошо заметна на примере романа «Война и мир» Л.Толстого. Учителя единогласно отмечают нестыковку с школьным курсом истории, ученики не ориентируются в событиях. Но роману отведена практически целая четверть! Педагоги признают, что абсолютное большинство учащихся «Войну и мир» не читают, довольствуются кратким пересказом и отрывками. Так зачем тратить так много времени на роман, пусть исключительно ценный в истории соседнего государства, выпуская пар в свисток, при этом современную белорусскую и российскую литературу обжимать до обзора, а западноевропейскую обстригать вообще до неприличия? Лучше бы до часового обзора сократили всё замшелое, вплоть до XIX в., из Толстого выбрали нечто более компактное и подходящее для углубленного обучения, «Войну и мир» переместив в список рекомендованной литературы. На совещании предложения относительно «Войны и мира» звучали, не прошли.
Закончу на оптимистической ноте. Специалисты Министерства образования не в силах реформировать программу в корне, согласно велениям времени, но они пытаются её улучшить, устранить частные недостатки, прислушиваются к мнению людей со стороны, если отвергают предложения, то мотивированно. Обещали исключить из списка рекомендованной современной российской литературы скандальный роман с обильной нецензурной лексикой, добавлено несколько стоящих произведений, общее распределение часов на темы стало более рациональным. Пусть медленно, пошагово, но всё же придём к оптимуму… И молодёжь, в большинстве своём, будет покидать школы не с ощущением «сдал и забыл», а готовая к самостоятельному изучению литературы на всю оставшуюся жизнь.
Высказанные здесь суждения прошу считать моим личным, выстраданным мнением, хотя аналогичные высказывания слышал от многих коллег по писательскому цеху.
Анатолий МАТВИЕНКО


